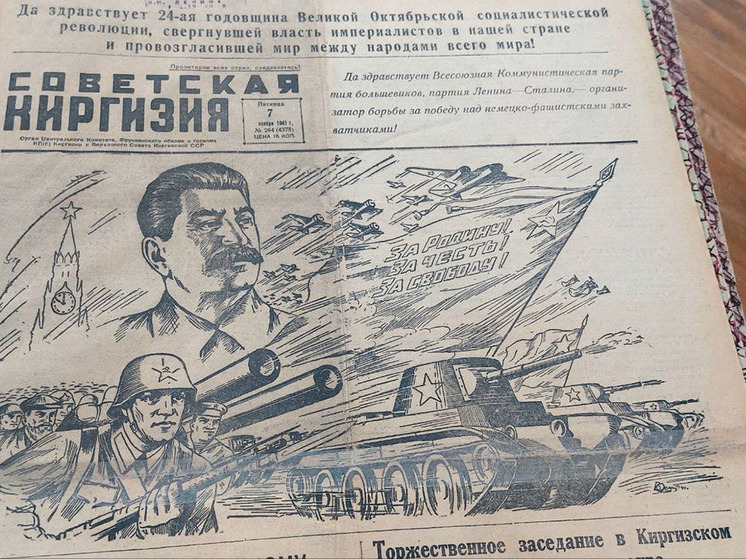Мы беседуем с директором Биологической станции «Рыбачий», орнитологом Андреем Мухиным о Куршской косе, о птицах, о том, как человек и природа оказывают друг на друга взаимное влияние, которое, к сожалению, не всегда идет на пользу обеим сторонам.

Три сотни видов над косой
— Почему же птицы избрали перелетным пристанищем Куршскую косу, а не Балтийскую?
— В сущности, вопрос не совсем корректный. Птицы следуют вдоль побережья, и над Куршским заливом, и над той косой, что вы называете Балтийской, или, если быть точным, Вислинской. Птицы летят и там, и там, но из-за значительной разницы в размерах заливов – Куршский залив существенно превосходит по площади Калининградский, он же Вислинский, – последний представляет для них куда меньшее препятствие.
Птицы ориентируются вдоль береговой линии, и пересечь небольшой Калининградский залив для них не составляет труда. Куршский же залив – совсем другое дело, его просторы ощутимо шире. Пролетая над водной гладью, мелкие воробьиные, не видят противоположного берега, поэтому инстинктивно избегают полёта над водой, и держатся ближе к земле, побережью. Они либо следуют вдоль берега со стороны материка, либо выбирают путь над Куршской косой. С Вислинским заливом происходит то же самое, но там миграционный поток меньше, хотя тоже присутствует.
— Значит, орнитологическая станция в Калининградской области действует только на Куршской косе?
— В середине и конце 70-х годов проводились эксперименты и на Вислинской косе, и даже поступали предложения организовать там стационар. Но, увы, для нашей небольшой организации содержание нескольких стационаров оказалось непосильным. В общем, мы были вынуждены отказаться.
— Получается, что птицы, в принципе, предпочитают лететь над берегом?
— Видите ли, когда мы говорим о птицах, важно помнить, что это не один вид, а приблизительно тысяч десять! Человек – один, а пернатых – легион.

— А сколько именно видов птиц пролетает через косу?
— Точную цифру я вам не назову, но около трехсот, чуть меньше трехсот, и у каждого вида свои предпочтения, свои силы, свои миграционные стратегии. Для гусей Куршский залив – всего лишь мелкая лужа, не представляющая никакой преграды, а для какой-нибудь синицы – это серьезное испытание.
Поэтому одни предпочитают лететь над косой, другие могут лететь как над косой, так и над Балтикой, над Куршским заливом или над материком. Для них это не имеет значения. Размер синицы и размер гуся – белолобого или гуменника, который ещё крупнее, – обуславливают разные стратегии. Для мелких воробьиных Куршский залив – это преграда.
— Есть ли понимание, в процентном соотношении, сколько крупных птиц все-таки летит через косу? Ну, сколько видов, допустим? 5, 6, 7, 10?
Опять же, все зависит от того, что мы подразумеваем под «крупными» видами.
— Ну, лебедь – крупная птица, гусь – крупная птица, баклан тоже…
— Баклан, безусловно, крупная птица, но основную массу птиц, которых фиксирует наша станция, которых мы ловим и метим, составляют мелкие воробьиные. Именно они преобладают. Наши ловушки просто не предназначены для отлова крупных птиц. Мы наблюдаем и журавлей, и разные виды гусей, казарок, крупных хищных птиц, пролетающих над косой, но они крайне редко попадают в наши сети. Гусей и журавлей мы вообще не ловим. Поэтому, конечно, основная масса того, что мы фиксируем, – это мелкие воробьиные птицы. Такова специфика работы нашей станции. Есть коллеги, которые изучают миграции крупных хищников, есть специалисты по гусеобразным, но это не наша специализация.

Кольцо без бриллианта
— Тогда что подразумевает собой кольцевание? Ещё со школы помню, что птиц кольцуют, чтобы отслеживать миграционные потоки, но если птицы летают через косу не одну сотню, а, может быть, и тысячу лет…
— И не одну тысячу лет.
— Тогда для чего мы их ловим и кольцуем, что мы узнаем?
— Исторически кольцевание возникло с целью определить, куда и как летают птицы. Многие миграционные маршруты, за более чем сто лет с момента появления кольцевания, уже изучили, но с появлением новых методик прослеживания выяснилось, что многое ещё оставалось неизвестным. Метод кольцевания, несмотря на свою массовость, не самый эффективный. Но именно благодаря этой массовости за десятилетия накоплены ценные данные о направлениях миграции и местах зимовок.
Но, конечно, этого недостаточно. Сегодня на передний план выходит, помимо изучения маршрутов, оценка изменения численности, то есть мониторинг.
На одном и том же месте, одними и теми же орудиями, в одни и те же сроки мы ловим птиц и видим, как меняется их численность, как меняются сроки миграции. Это долговременный экологический мониторинг. Этим и славится наша станция.

Это место, где безостановочно, с 1956 года, – станция появилась в 56-м, а массовое кольцевание началось в 57-м, – мы кольцуем птиц. И, таким образом, мы собираем стандартизированные данные о численности пролетающих птиц.
Урбанизация против воробьев
— Мне всегда казалось очевидным, что птицы – неотъемлемая часть той экосистемы, в которой живет человек. Как и рыбы в реках, звери в лесах, как и сам лес, – все это сплетено в единую ткань жизни. И я, быть может, рассуждая дилетантски, опираясь лишь на личный опыт, полагаю: когда какой-то вид птиц исчезает, как, например, случилось с воробьями в Китае, в экосистеме происходит надлом.
Возможно, множатся паразиты, рои комаров, полчища жуков, появляются ядовитые мухи… Но насколько это справедливо сейчас, когда урбанизация и индустриализация тяжким бременем давят на природу?
— Сложно дать однозначный ответ, вопрос слишком обширен. И не всегда все так прямолинейно. Но в целом, чем сложнее система, чем больше в ней элементов и связей между ними, тем устойчивее она. Потеря одного элемента не обрушит всю конструкцию. Множество переплетений компенсируют утрату. А вот в простой системе, где всего три точки взаимодействия, исчезновение одной из них грозит полным крахом.
Поэтому, безусловно, чем богаче система видами, особями птиц и зверей, тем она жизнеспособнее. Но даже если какой-то вид исчезнет, нельзя с уверенностью сказать, что всё рухнет. Взять, к примеру, тех же воробьёв. Китай – самый известный пример, но их численность сокращается во всех крупных городах мира. Причины сложны и многогранны.

Стала ли наша жизнь хуже? Вряд ли. Прыгали воробьи, щебетали… Да, их стало меньше. Но мир не обратился в прах. Хотя, не стоит подходить ко всему утилитарно. Птицы – не просто функция, они часть окружающего ландшафта, часть мира. Почему приоритет всегда должен быть у человека, а не у птиц?
— Как раз об этом я и хотел спросить. Вы говорите об общих положениях теории систем. Чем сложнее система, тем лучше она реагирует на изменения, тем она устойчивее.
— Да, устойчивее.
Виды вымирают незаметно
— Это касается любой системы, от государственного устройства до человеческого организма. Если отрезать мизинец, человек проживёт и без него, но это не значит, что без мизинца жить приятно. И вот интересно, если отрезать по мизинцу раз за разом, когда наступит тот предел, когда жить станет совсем не здорово? Исчезли воробьи, потом зяблики, синицы, скворцы… Остались лишь гуси-лебеди. Когда наступит точка невозврата?
— Боюсь, что на этот вопрос ответить невозможно. Нельзя провести такой эксперимент. Ведь виды не исчезают по щелчку пальцев. Нельзя убрать вид и посмотреть, что изменится, а потом вернуть его обратно. Вот, например, несколько лет назад в Красную книгу России внесли обыкновенную горлицу. Совершенно обычный вид, который до 70-х, даже до середины 80-х годов можно было встретить повсеместно. А сейчас он практически исчез из фауны России, и что изменилось? По большому счёту, ничего. Её место заняла кольчатая горлица, чуть крупнее. Для экосистемы ничего страшного не произошло. Сейчас прилагаются огромные усилия, тратятся миллионы евро на международные программы по спасению вертлявой камышевки – маленькой серо-коричневой птички, самого редкого вида птиц в Европе.
Но что изменится для человека, если она исчезнет? Ничего. Просто одним видом птиц станет меньше. Он останется лишь в коллекциях. Трагедия? Для кого-то да. Но обычный человек, который живёт далеко от болот Литвы, Белоруссии и Калининградской области, даже не знает о её существовании.
Есть знаковые виды, которых все хотят спасать: амурский тигр, панда, киты…
— Черные аисты…
— Черный аист не такой уж и редкий. В Калининградской области это обычная птица. Охранный статус – скорее, дань истории. А вот вертлявой камышевки почти не осталось. И, видимо, скоро не будет совсем. Что случится? Для обычного человека – ничего. Лишь группа ученых отметит, что ещё один вид исчез из-за деятельности человека.
Чайки променяли рыбу на помойку
— По поводу деятельности человека. Птицы, которые живут в городах, на помойках и свалках — голуби, чайки. Какая между ними связь и человеком? Симбиоз? Человек кормит птиц, но что они дают взамен? Не паразитируют ли они на городских свалках?
— Нет, паразитизм – это научный термин с четким определением. Эти птицы не паразиты. Это просто виды, которые приспособились к новому источнику питания. С чайками сейчас серьезная проблема. Многие виды перешли с рыбы на пищевые отходы. Это яркая тенденция последних 15-20 лет.
— Почему?
— Основные места питания чаек сегодня – это мусорные полигоны и сейчас они активно осваивают гнездование на крышах домов. До начала 90-х годов города были полны сараев, где держали свиней, и пищевые отходы шли им на корм, но вскоре эти особенности городской жизни советского периода исчезли. Люди стали питаться разнообразнее и лучше, огромное количество отходов оказывается в мусорном ведре, а затем – на полигонах. Для птиц это просто благодатный источник питания. Они не плохие, они просто нашли новую кормовую базу. Более дешевую и доступную. Зачем летать в море за рыбой, когда рядом всегда есть еда?

— Как это влияет на экосистему, стало больше рыбы?
— Нет, рыбы больше не стало. Стало больше чаек. А это ведет к тому, что мусорные полигоны, часто расположенные рядом с крупными городами, где находятся и аэродромы, стали представлять серьёзную проблему из-за опасности для полетов. Сотрудники нашего Зоологического института постоянно участвуют в работах по мониторингу численности семейства чайковых на мусорных полигонах вокруг Петербурга, и они видят, как идет рост численности птиц на этих местах скопления еды.
Мы часто сталкиваемся с тем, что различные службы звонят и просят: «Помогите избавиться от чаек!» Но это невозможно, если не убрать их кормовую базу. А как ее убрать, если мусорные полигоны для многих – источник дохода. Здесь в конфликт вступают различные интересы общества, бизнеса и власти.
Крылатый вирус
— Опасны ли птицы для человека как источник заразы?
— Это как раз следующее о чем я хотел сказать. Да, безусловно, часть птиц опасна. Особенно чайки. Они – один из основных резервуаров птичьего гриппа, опасного вирусного заболевания (H5N1 и другие). Вирусы мутируют, и водные птицы, в том числе чайки, – основные распространители этой болезни, которая опасна не только для диких, но и для сельскохозяйственных птиц. Здесь же крупные птицефабрики оказываются под ударом. Взаимодействие диких и сельскохозяйственных птиц оборачивается колоссальным уроном для сельского хозяйства. Попытки обуздать чаек, в общем-то, понятны. Но что реально можно сделать? Практически ничего. Исключить контакт сельскохозяйственных птиц с дикими – задача почти невыполнимая.
Чайки расплодились неимоверно, и именно мусорные полигоны стали эпицентром распространения вируса: больная птица заражает других, и вот уже эпидемия ширится. Что с этим делать – неясно. Я участвовал в совещаниях на уровне правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где эти вопросы поднимались, но действенного решения нет. Любое решение упирается в баснословные расходы. Попробуйте создать систему, при которой сельскохозяйственная птица будет полностью изолирована от внешнего мира! Это невероятно сложно и дорого.

Чтобы сдержать рост популяции чаек, необходима постоянная рекультивация полигонов. Не должно оставаться открытых отходов, но и это практически нереально или стоит чудовищных денег. Эта проблема – не только российская, она актуальна для многих стран, где мусор складируется под открытым небом. Единственный выход – строительство мусоросжигательных заводов, но это опять-таки колоссальные затраты.
Все взаимосвязано… Начинаем с одного, а приходим к другому. От уровня жизни людей до распространения патогенов. И птицы – связующее звено.
Рассада каменных джунглей
— Вернемся к Куршской косе. Представьте себя… ну, не знаю… главой ООН, президентом мира, и вот перед вами встает выбор: кто должен остаться здесь – птицы или люди? Что вы выберете?
— Нет, я бы не стал делать такой выбор.
— Вы хотите сказать, что человек и птица могут сосуществовать без радикальных решений?
— Думаю, на определенном этапе… Конечно, да.
— Тогда вероятно есть условия, которые должен для этого соблюдать человек? Ведь если взять Дубай, Нью-Йорк без Центрального парка – это же голая пустыня, каменные джунгли, и здесь человек живёт как ему удобно.
— Давайте разберемся. Куршская коса – это национальный парк. Особо охраняемая природная территория.
Задача такой территории – создание особого режима сосуществования человека и природы, с максимальным сохранением природных ландшафтов. Это особая зона. На неё распространяются совершенно иные законы, чем, скажем, на Калининград. В Калининграде возможны региональные ООПТ, но
Куршская коса – федеральная особо охраняемая территория, деятельность на которой контролируется особо.
Безусловно, люди живут на Куршской косе. Живут давно, ещё со времен викингов, как показал доктор исторических наук Владимир Кулаков. У них, людей, есть право там жить. И птицы обитают здесь испокон веков. Раз уж территория имеет такой статус, необходимо соблюдать множество условий, и для жизни людей, и для развития Куршской косы, и для развития туризма. Туризм на особо охраняемых природных территориях возможен, но он должен быть под строжайшим контролем.

— Хорошо, мы к этому вопросу вернемся. У меня вопрос об аналогах косы. Я знаю такие места есть Крыму, в Германии есть что-то подобное.
— Вы имеете в виду песчаные косы?
— Да, песчаные косы.
— Конечно, вытянутые песчаные косы существуют много где. У поляков тоже есть косы вдоль побережья. И в Германии, и в Румынии есть похожие косы. Это не уникальное явление, и птицы летят над ними, и там также концентрируются. Это нормально. Птицы используют особенности ландшафта для решения своих пространственных задач. Задача птицы –пережить миграцию и передать свой генетический материал потомству.
Чтобы не лететь над водой, а это опасно, птицы предпочитают лететь над землей, над побережьем. А если побережье образует вытянутые косы, направление которых совпадает с направлением сезонных миграций – это просто идеально. Зачем делать крюк или лететь над опасной водой, когда есть прекрасная Куршская коса?
Птицы используют её как своеобразный мост. Мы, люди, строим мосты, и птицы используют такие природные мосты просто потому, что это выгодно.
Разные законы в одном заповеднике
— Давайте вернемся к вопросу о соответствии между реальностью и декларациями. Мы заявляем, что Куршская коса – национальный парк, особо охраняемая территория с жесткими правилами и строгим надзором. Но что видит обычный калининградец, который здесь вырос, с детства ездил на косу, и сравнивал ее с литовской частью? Ведь это совершенно разные подходы к ландшафту, к экосистеме. Я не говорю сейчас об архитектуре, это тема для отдельного разговора, но разница в подходах бросается в глаза — Йодкранте и Рыбачий – это две разные планеты. И как понять, где тот эталон, которому мы должны следовать в национальных заповедниках, и кто его воплощает?
— Во-первых, не будем забывать о федеральном законодательстве, которое регулирует особо охраняемые природные территории. Все это контролируется Министерством природных ресурсов, и существуют правила, которые должны соблюдаться.
В России – свое законодательство, в Литве – свое, в Польше – свое. Мы живем в России и должны опираться на российские законы. Именно их соблюдение и определяет развитие Куршской косы в рамках существующих норм. Что касается различий между Рыбачьим и Йодкранте (или Нидой), важно помнить об историческом развитии этих поселков. Рыбачий всегда развивался как трудовой, рыбачий поселок, крупный колхоз. Развитие шло в русле колхозного строительства и крупного производства. В Йодкранте и Ниде этого не было. Вылов рыбы там не был промышленным, и занимались им, в основном, местные жители. Поэтому поселки так сильно отличаются внешне.

В постсоветское время акцент сместился на отдых. Ну и конечно в Литве очень жестко регулируется сохранение исторического наследия.
Там законодательно закреплено, что все постройки до 1987 года (могу ошибиться с датой, но это точно 80-е) – это культурные артефакты. В центре Ниды стоит уродливое двухэтажное кирпичное здание бывшего рыбколхоза. Оно подлежит сохранению, каким бы уродливым оно ни было, потому что построено до установленной даты, и они его сохраняют. В поселке нельзя заменить деревянные окна старых домов на пластиковые, двери должны оставаться прежними. Всё направлено на максимальное сохранение исторического облика. Это сохранение аутентичности той части Куршской косы, которая принадлежит Литве. У нас законодательство в этом отношении гораздо более либеральное, но это уже разная государственная политика, тут я ничего не могу добавить.
— Ещё один элемент сегодняшней нагрузки на экосистему – это огромное количество туристов. То, что я увидел этим летом, меня просто поразило. Непрерывная вереница автобусов по косе. К Танцующем лесу ни подойти, ни подъехать, все забито автобусами. Чуть ли не до самой границы бродят толпы туристов.
Влияет ли это на экосистему, на птиц?
— Конечно, влияет. Такое количество туристов не может не влиять. Но я не очень представляю, что с этим можно сделать. Куршская коса очень сильно распиарена, это факт.
Поток туристов огромен, люди хотят увидеть это интересное во всех отношениях место. Но большинство, процентов 80, если не больше, – это туристы одного дня. Их привезли, показали природу, погрузили в автобусы и увезли. Тех же, кто остается на более длительный срок, значительно меньше.

Создает ли это нагрузку? Да, создает. Но надо понимать, что Куршская коса исторически развивалась как место, где жили люди. Это не заповедник, где вообще нет хозяйственной деятельности. Это место, где люди живут и будут жить, где развивается туризм. Разные национальные парки и заповедники, несмотря на одинаковый статус ООПТ, имеют разное историческое развитие. Поэтому, хотя я и понимаю озабоченность общественности количеством туристов, посещающих Куршскую косу, но я не очень представляю, как это можно регулировать. Я все-таки не специалист в этой области.
Острый вопрос чистоты
— Вопрос о Рыбачьем, который ранее у нас существовал как колхоз, как передовик соцсоревнования. Шутка не шутка, но ведь сейчас это действительно колхоз, по сути, несмотря на то, что позиционируется чуть ли не как курорт. В Рыбачьем нет очистных сооружений, и, скорее всего, в ближайшей перспективе их там не будет. Туристической инфраструктуры тоже нет. В архитектурном плане, не отличается от тех стихийных посёлков, которые у нас стихийно появились на территориях СНТ. И вот, мы с превеликим удивлением узнаём, что в посёлке намереваются построить огромный туристический комплекс, да с многоэтажными зданиями, да с расширением территории участка за счёт акватории залива. Учёные бьют тревогу, общественность протестует, и даже чиновники против. Как вы на это смотрите?
— Очистные сооружения в поселке есть. Они пассивного типа. Как существовали при немцах, так и существуют до сих пор. Это канавы, частично открытые, частично закрытые, по которым стоки проходят через ряд фильтрационных водоемов, оседает твердая фракция и отфильтрованная вода сбрасывается в Куршский залив. Там есть насосная станция, которая все это перекачивает, правда эта система создавалась для определенного количества людей. Поселок Рыбачий не уникален в этом отношении. Все прибрежные поселки Куршского залива строились примерно по одному типу.
Есть канавы, отстойные водоемы, и затем через естественную фильтрацию происходит сброс воды в Куршский залив. Повышает ли это эвтрофикацию? Конечно, повышает. Происходит ли заиливание? Да, происходит. Что можно делать? Строить настоящие очистные сооружения, но вопрос упирается в их дороговизну.

— Получается, телега у нас опять едет впереди лошади. Мы понимаем, что очистные нужны, что нужна инфраструктура… Но мы сначала запускаем туристов, а потом думаем об инфраструктуре. Сначала строим туристические комплексы, а потом думаем куда сливать отходы жизнедеятельности. Возьмём проект, так называемая «стена смерти», который наделал шуму не только Рыбачьем, но и во всей Калининградской области, да так, что скандал докатился до федерального уровня. А меж тем, предварительный проект этого комплекса был одобрен Научно-техническим советом при национальном парке.
В этот научно-технический совет входят 16 или 17 человек, в основном научные сотрудники, из которых 5 или 6 – работают в дирекции национального парка. Интересно, что «одобрение» проекта проходило как раз составом этих работников. Говорят, возражающим был Андрей Мухин.
Вы помните эту историю?
— Да, я помню это заседание научно-технического совета. Там впервые прозвучала идея строительства гостиничного комплекса в Рыбачьем, и, конечно, я сразу же высказал свои сомнения. Насколько вообще необходимо такое строительство? И соответствует ли оно законам, регулирующим особо охраняемые территории? Вот, собственно, и все.
Насколько мне известно, сейчас застройщик понял, что без прохождения всех бюрократических кругов ему не обойтись. Это и исследования, и подготовка ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду), и согласование с местными жителями, и подача документов в Минприроды, и получение различных разрешений, согласование экономической деятельности… Тяжелая бюрократическая машина! Но в данном случае следование этим процедурам – это закон.
Застройщика вынудили подчиниться четко прописанной процедуре. И пока он не пройдет все бюрократические предписания, стройка не начнётся. И это, я считаю, правильно.

— Я тоже с этим согласен, несмотря на, как вы выразились, наше довольно либеральное законодательство. Получается, что даже в нем есть защита от дурака. Слишком много условий сразу указало на то, что это строительство – не обычное, а потенциально опасное.
И вот последнее письмо, которое отправил в Минприроды «Экспертный совет по заповедному делу». Они прямо заявили, что строить там вообще нежелательно, потому что в последнем приказе Минприроды РФ, площадь новой охранной зоны со стороны Куршского залива теперь превышает 164,4 тыс. кв. м. Ее ширина на акватории залива достигает 4,1 км, на суше — 1 км. И строительство на шельфе, в акватории этого рыбацкого рая, может разрушить экосистему. Вопрос «быть или не быть» остается открытым.
— Это вопрос к застройщику. Но сейчас, из-за изменений в законодательстве, включения прибрежной зоны Куршского залива в территорию национального парка, засыпка существенной части Черногорской бухты у поселка Рыбачий – решение крайне спорное. Согласует ли Минприроды такое решение? Поживем – увидим. Но будем надеяться, что это маловероятно... В итоге, застройщик может возводить объекты только на уже приобретенной им территории.
— Мы с вами уже обсуждали, что там, где живет человек, строить можно. Человек, в принципе, взял на себя смелость преобладать над природой. В каждой советской школе висел плакат со словами Ивана Мичурина: «Мы не можем ждать милостей от природы. Взять их у нее – наша задача». Но во всем нужна мера.
Ведь так? Застройщик купил землю, хочет инвестировать, что-то построить. В чем загвоздка? В том, чтобы строительство органично вписывалось в ландшафт, в экосистему, соответствовало каким-то правилам, общепринятым нормам.
— Наверное. Тут не поспоришь. Знаете, мы все на словах за добро против зла. В ваших словах я не вижу ничего плохого. Вы абсолютно правы.
Но как это будет в реальности? Тут все зависит от законодательства, от его соблюдения и от контроля за исполнением со стороны соответствующих органов и общественности. Задача общественных организаций – привлекать внимание к тому, чтобы законодательство Российской Федерации выполнялось. Этим же занимается и Экспертный совет по заповедному делу, который настаивает на соблюдении закона и не требует ничего сверхъестественного. Только выполнения законов, регулирующих деятельность человека на особо охраняемых территориях.
Вот и все. Никто не говорит: «Стоп стройке! Выселить всех!». Просто: есть закон – давайте его соблюдать.
Мне кажется, до застройщика это, в конце концов, дошло. Вы приобрели землю под строительство на особо охраняемой территории. Раз рискнули – пожалуйста, развивайте, стройте, но в рамках существующего законодательства.
— В самом первом письме «Экспертного совета» в прокуратуру, году этак в 2023-м, речь шла о стеклянно-бетонном колоссе, башне в 21 метр высотой, несущей гибель птицам. Но, если отрешиться от частностей, что нам, в сущности, эти самые птицы? Ну, птицы и птицы… Но разве деятельность человека не в приоритете? Почему мы должны оглядываться на птиц? Или это не предмет для отвлеченных рассуждений, а вопрос, закрепленный законодательно? Существуют ли законы, оберегающие птиц от нашего вмешательства? Где предел, где грань между здравым смыслом и буквой закона?
— Не стоит забывать, что законы не возникают из пустоты. Они – отражение представлений, которые люди облекают в законодательную форму. Были люди, считавшие, что сохранение Куршской косы, её аутентичности, её особого статуса для перелетных птиц – задача первостепенной важности.
Именно поэтому было принято решение о создании на территории косы национального парка. Он возник, если память не изменяет, в конце 1980-х. Причем сотрудники нашей станции активно способствовали этому. Владимир Александрович Паевский, ведущий научный сотрудник Зоологического института, писал письма в соответствующие инстанции, доказывая необходимость организации национального парка на Куршской косе.
В конечном итоге, это и было сделано в 1987 году. Почему? Потому что у людей есть представление о прекрасном, они видят уникальность этого места, и эта уникальность была закреплена законодательно.

— Тот случай, когда соединились этика и эстетика.
— В том числе. Изначально решение было принято на основании представлений о прекрасном у людей, живущих и работающих на Куршской косе. Конечно, коса входит в список ЮНЕСКО, но, если внимательно изучить критерии, на основании которых она была включена, можно заметить, что птицы, хотя и упоминаются как "древний птичий мост", не являются главным аргументом. Куршская коса – это особое место со своей культурой, со своими песчаными дюнами, во многом созданными искусственно. Это комплексный объект, включающий в себя не только птиц и залив, но и людей, населявших ее ранее и населяющих ее сейчас, образующих некое уникальное сообщество.
А птицы – лишь один из элементов. Что было первым? Представление людей о прекрасном, о необходимости сохранения этого уникального места.